Загрузка ...
блоги
|
|
литература (оксана вениаминовна) |
|
Художественный мир Достоевского
– Существует своеобразная «табель о рангах» русских писателей в глазах иностранцев. Первый писатель, которого узнали и оценили на Западе, был Тургенев (который там и жил по большей части). Его авторитет держался до конца 19 века, хотя Тургенев благородно и компетентно подсказывал французским издателям, кого из наших авторов нужно переводить. В начале 20 века в умах воцарился Толстой. И толстовством (учением, а не подражанием его писательской манере) заразились даже в Канаде и в Японии – такой у него был авторитет. Достоевского же на Западе как-то… не учитывали до поры до времени. А в России считали человеком больным, нервным, неуравновешенным – да он и был в жизни таким, что уж скрывать? И потому к его горячности, к вечной тревоге, желанию предупредить, откуда грядет беда, относились со снисходительным высокомерием. Ну да, талант, но зачем же все преувеличивать и вечно пугать какими-то грядущими катастрофами? Мы же цивилизованные люди, и впереди у нас один сплошной прогресс – и научный, и социальный. Все будет хорошо, не надо так волноваться – вредно для здоровья. Хотя какой спрос с Ф.М. – при такой-то биографии? Но ведь нелепо же кричать с вечным надрывом: «Во всяком человеке, конечно, таится зверь!» И так… некрасиво писать памфлеты на революционеров, которых все (с легкой руки Чернышевского) считали лучшими людьми – прямо-таки святыми. В России поняли, о чем пытался предупредить Достоевский, довольно быстро – по ходу революции и последующих социальных экспериментов. Но те, кто понял, либо оказались в эмиграции, либо погибли, либо намертво замолчали. А чтобы следующие поколения не задумывались над книгами Достоевского, их не особенно-то издавали и надолго исключили из школьной программы (до 60-х гг. 20 века – до «оттепели»). Тогда в школьных билетах про всех спрашивали: Ленин о Толстом, Ленин о Маяковском… О Достоевском не спрашивали, потому что Ленин (тоже понимавший, что к чему) сказал: «…ваш архискверный Достоевский». На Западе же поняли, что Достоевский-то пророк, после Второй мировой войны. Вот как увидели концлагеря – так и сообразили и что такое «насильственное общежитие», и что в человеке и впрямь таится очень страшный зверь… Пик популярности Ф. М. пришелся на 40-50 гг. Потом кое-как оправились, забыли ужасы, занялись потреблением и развлечениями… Но, в общем, репутация его как интеллектуала, писателя для избранных и все-таки великого и пророка такой и остается до сих пор. Японцы его любят, кажется, больше, чем все прочие…
– Читать Достоевского действительно трудно, поскольку его художественный мир уникален и не соответствует читательским ожиданиям. У него свои законы, которые можно понять и назвать – и читать станет чуточку легче. Хотя это все равно будет труд, а не развлечение. Достоевский пишет на пределе сил и от читателя требует такой предельной самоотдачи – и душевной, и умственной. Это не интеллектуальная игра (как принято в последние десятилетия). С точки зрения Достоевского, всем нам необходимо «мысль разрешить», найти для себя ответы на самые главные вопросы. А иначе – гибель, причем всерьез (история показала – насколько всерьез). Итак, романы Достоевского называют «интеллектуальными» – и это справедливо.
– Называют их также «идеологическими», и это тоже очень точное определение. Не в том смысле, к которому мы привыкли в советские времена (идеологический – значит навязывающий известную идеологию, то есть набор идей, мировоззрение), а в более широком и корректном. Это романы, в которых исследуются идеи (и идеологии – то есть комплексы идей), имеющие хождение в человеческом обществе. Анализируются, проверяются на истинность. В определенном смысле «Отцы и дети» тоже идеологический роман, тем паче – «Что делать?» Чернышевского. Отличие же в том, что Достоевский изучает не сами по себе идеи, а идеи в их взаимодействии с человеческой личностью. Можно воспользоваться образом, который сам же Достоевский предложил в эпилоге «Преступления и наказания»: идеи подобны невидимым, микроскопическим и при том разумным организмам, которые вселяются в людей и делают с ними все, что пожелают. Роман Чернышевского в определенном смысле стал тем тезисом, который Достоевский попытался опровергнуть в «Преступлении и наказании». И первое отличие – в самом взгляде на то, как взаимодействуют идеи и человеческие души. У Чернышевского революцию своими руками собирался делать один герой – Рахметов. Лучший из лучших, «особенный» человек, который ради сочувствия простому народу даже ананасов никогда не ел (вот нам смешно, а автор и читатели на полном серьезе восхищались). И этот особенный человек был готов ради изменения мира в лучшую (с его точки зрения) сторону лично осуществлять необходимое насилие. Можно вспомнить, что одна из листовок той эпохи содержала фразу: «В топоры зовите Русь!» Вот Достоевский и продемонстрировал, что будет с очень совестливым молодым человеком, который не об ананасах думает, а последние гроши незнакомым людям раздает (а сам при этом голодает), если дать ему в руки топор и отправить «на дело». Ради социальной справедливости. Что станет с его жизнью, душой, характером? Как вообще должна была вживаться в него эта идея, чтобы он смог пойти на такое? Что эта идея с ним сотворила?
– То ли в шутку, то ли всерьез физики называют Достоевского первооткрывателем метода мысленного эксперимента: если эксперимент провести физически невозможно, есть все же шанс его математически смоделировать, просчитать. Только считать надо честно, стараясь учитывать как можно больше параметров. Роман Чернышевского не выдерживает никакой критики с точки зрения «научности» эксперимента: все приблизительно, декларативно, плакатно. А вот Достоевский так воссоздает тот фрагмент жизни, где ставит свои опыты, что читатель всем существом чувствует его жизненную точность. Читаешь, как Раскольников в горячке касается босой ногой холодного пола, и вздрагиваешь… Романы Достоевского называют «экспериментальными» – он в самом деле ставит над героями эксперименты. И цель их, повторим, всегда одна – посмотреть, как калечит человеческую природу ложная идея. В «Подростке» герой (19 лет от роду) решил стать Ротшильдом (разбогатеть неимоверно) – что дальше? В «Бесах» революционная «ячейка» резвится – что станет с каждым из них? Что будет с человеком, который попытается (как Бог) стать для всех тем, в ком они нуждаются? Отдать себя буквально на растерзание чужим искалеченным страстями душам? Хороший человек князь Мышкин, но плохо ему будет, потому что не по силам человеческим такая ноша. Да и другим – тем, кого он не сможет вытянуть из их страстей и мук, – тоже будет плохо. К чему приведет Ивана Карамазова его бунт – нежелание «простить» Богу земные страдания детей, которых страшно мучат на земле взрослые люди? И что можно ответить на его мучительный крик: «Не хочу гармонии!» – если она построена на слезах замученного ребенка? Достоевский не упрощал себе задачи, не занимался легко опровержимыми идеями. Но эксперименты ставил честно.
– Каждый роман Достоевского – спор, столкновение позиций и мировоззрений. При этом авторская позиция – это даже не голос в споре, а то симфоническое целое, в котором звучит это многоголосье. У каждого героя своя партия, своя роль в сложнейшем идейном контрапункте. Автор же слышит в этом целом гармонию – искомый ответ и решение. И читателя приглашает услышать. Читатель, надо сказать, и тогда к такому не был готов, и до сих пор не привык. Может быть, потому, что, кроме Достоевского, никто так больше не писал. Эту уникальную особенность его романов далеко не сразу сумели осознать даже профессиональные филологи. Едва-едва, с трудом, насилу критик доказывал, что теория Раскольникова ошибочна – и оборачивался на автора: я понял, мол, что все неправильно! Но автор имел право лишь плечами пожать: разве я говорил, что правильно? А что он говорил? В этом разбираться критику сил уже не хватало. В 1929 году вышла книга «Проблемы поэтики Достоевского». Ее автор М. М. Бахтин показал, что романы Достоевского строятся на соотнесении множества голосов: у каждого героя своя партия, своя «правда», и они все так или иначе соотносятся друг с другом. Если Толстой в своих романах словно бы пропускает внутренние миры героев через свое, авторское сознание и преподносит нам их уже приведенными к некоему общему знаменателю, то Достоевский старается напрямую «подключить» читателя к сознанию главных «игроков». По аналогии с музыкальной терминологией (в данном случае весьма уместной) Бахтин назвал романы Достоевского «полифоническими», то есть многоголосыми. Та истина, которая должна прозвучать в ответ заблудившемуся в идеях герою, не может быть выражена «плоско», просто и одноголосо. Настоящие истины – явления другого порядка, более высокого и более сложного. Если их упрощать, они перестают быть истинами, потому что и мир наш, и мы сами устроены отнюдь не просто и, главное, не «плоско». Достоевскому создание его интеллектуальных симфоний давалось очень тяжело (еще бы – держать в уме такое бесконечно сложное и многомерное целое). И при этом ему казалось, что однажды он сумеет написать так, что все его поймут и всем откроется ослепительная и счастливая истина о жизни. И каждый роман казался ему только наброском, преддверием самого лучшего и главного романа…
– Когда речь заходит о художественном методе, которым пользовался Достоевский, его обычно называют реализмом. И часто уточняют, что это «фантастический реализм». Ну в самом деле. Все дореалистические художественные системы к его романам не имеют отношения (включая романтизм). Да, точность изображения (ради чистоты эксперимента) доходит иногда до натурализма, но все-таки это именно «типические характеры в типических обстоятельствах» – люди своего времени, сословия, культуры. Идеи, которыми одержимы герои Достоевского, не из воздуха берутся – эти идеи приходят из книг и газет, из всей общественной жизни. Они тоже суть порождения своего времени и человеческого общества в определенный момент его развития. Да, но… а призраки – это тоже реализм? Те, что являлись Свидригайлову? Вероятно, придется ответить утвердительно. Да, реализм. Если хотите – психологический: это явление, сопутствующее определенному состоянию души. Или можно воспользоваться термином «фантастический» и считать их таким специальным художественным приемом – реалистической фантастикой. Такое и у Гоголя бывало, и у Салтыкова-Щедрина, а уж в 20-м веке кто только не пользовался богатыми возможностями этого приема.
– О психологизме в романах Достоевского нужно сказать особо. Тут он тоже первооткрыватель, приоткрывший люк в подвалы подсознания. Насколько Толстой-психолог стремится быть рациональным и объяснять, логично излагать пусть даже очень сложные и противоречивые состояния своих героев (вспомним «диалектику души» и Николая Ростова, проигравшегося в карты), настолько Достоевский старается найти подходы к иррациональным, глубинным свойствам человеческой души. Он, живший с каторжниками, знал доподлинно, что человеком движет в первую очередь отнюдь не разум и не логика, а что-то, чего он сам порой не может объяснить – или даже увидеть. Сам человек ищет своим иррациональным поступкам логические объяснения: внутренних монологов в его романах множество, как и всяких разговоров по поводу поступков, чувств, решений, но Достоевского они не удовлетворяют. И он, в свою очередь, ищет такие ходы, которые помогли бы подобраться к истинным мотивам наших поступков и вообще устроить для героев «момент истины», заставить их раскрыть свою глубинную и истинную суть. Для этого у Достоевского есть два излюбленных приема: сон и скандал. О том, что сон выпускает наружу тайны подсознания, теперь уже всем известно. А про скандалы мы еще поговорим. Но кто читал, тот помнит, вероятно, сколько же правды вылилось наружу, к примеру, на поминках Мармеладова.
– Со скандалом (как художественным приемом) связан у Достоевского выбор места действия. Это площадь, лестница, проходная комната, комнатушка без запора, куда могут набиться все желающие, коридор в полицейском участке… Человек в его романах редко остается один, он всегда на людях, и все открыты друг другу – не спрячешься. И в то же время одинок, не понят, часто никому не нужен. Скандал – это попытка достучаться до человечества, крик о помощи… Об этой «скандальности» Достоевского тоже писал Бахтин: он считал ее отзвуком утраченной карнавальной культуры, которая в былые века объединяла людей, снимала разделявшие их рамки приличий и сословий. И тот же Бахтин назвал то состояние мира, в котором действуют герои Достоевского, «хронотопом порога». (Хронотоп – некоторое осмысленное единство места и времени внутри художественного произведения: хронос – время, топос – место). Смысл «порога» в его двойственности, пограничности, необходимости сделать выбор, перешагнуть через некую грань: в жизнь, в смерть, навстречу людям или прочь от них и т.д. Достаточно вспомнить Раскольникова на пороге у старухи, чтобы оценить точность бахтинского названия.
– Художественное время у Достоевского – это отдельная проблема. Не так-то просто определить, сколько времени длятся события в «Преступлении и наказании» (если исключить эпилог). Как правило, всех поражает, что описаны всего лишь 9 дней. С натяжкой – две недели, поскольку несколько дней словно бы выпадают из сознания героя. Слишком много событий успевает произойти – да каких событий! С иным человеком во всю жизнь столько не случится (к счастью). Но дело даже не в том, что время словно бы спрессовано – оно течет неравномерно, за ним невозможно уследить, оно меняется прямо на глазах, рвется, ускользает… Такого времени до Достоевского мы тоже не встречали. И, главное, не скажешь, что автор изображает «неправильное» время – просто время он изображает субъективное, психологическое. Мы отлично знаем, что так обычно и бывает, но вот ввести в ткань текста эту психологически обусловленную неравномерность и сейчас редко кто берется. Проще сказать, что время летело или время тянулось. Сказать, а не показать, не дать почувствовать этот поток…
– И, наконец, еще одна особенность романов Достоевского, которую нужно иметь в виду. Кроме обычных (реалистических) деталей в них встречаются детали символические. Это, как правило, символы-аллюзии, отсылающие читателей к хорошо им известным образам, идеями и цитатам. То есть современникам Достоевского они были хорошо известны, а вот нам… Нам нужен комментарий.
Начнем, к примеру, с чисел. Сколько денег хотел Раскольников взять у старухи (ради какой суммы пошел на убийство)? Три тысячи рублей. Взял? Может быть, только он сам не знал, чего и сколько взял. Зато его родные получили те самые 3 тыс. законным способом – по завещанию Марфы Петровны Свидригайловой (интересное совпадение). Та же Марфа Петровна «выкупила» своего мужа у его кредиторов. За сколько? За 30 тысяч рублей. Кто-нибудь уже видит здесь систему? Может ее объяснить? Если нет, остается вспомнить последнюю сумму – цену Сонечки, З0 «сребреников». Евангельское число – цена жизни, цена человека. Это бесспорная, очевидная и всем даже сейчас понятная аллюзия. Есть еще (как минимум) две такие же: символика солнца и символика двери. Раскольников думает, что не сможет убить «на глазах у солнца». Почему? Кроме, возможно, еще каких-то нюансов потому, что солнце – символ Христа, знак его присутствия в мире («Солнце Правды Христос Бог наш»). А при Нем убивать как-то… совестно. И Он же сказал о Себе: «Я есть дверь…» Потому, наверно, дверь в старухину квартиру никак не открывается убийце, а потом – открытая – не выпускает его из западни, которой стало «пространство убийства». Зато дверь к Сонечке сама открывается, когда Раскольников пытается ее найти на темной площадке. Еще бы – это дверь к спасению.
Есть в мире Достоевского своя, внутренняя символика. К примеру, он не любил желтый цвет. Подробно об этом рассказано еще в «Белых ночах» (любимый розовый домик взяли да перекрасили в канареечный цвет). В Петербурге желтого было очень много (даже, наверно, чересчур): так красили все правительственные здания. Желтый – казенный, жестокий, жесткий, желчный… У Достоевского иначе не бывает.
Иногда детали «говорят» за персонажей (уже почти по-чеховски, точно и экономно). К примеру, похвальный лист Катерины Ивановны; всеобщий мармеладовский драдедамовый платок – символ смятения и катастроф; монетка, выброшенная Раскольниковым; петушок пряничный, которого нашли в кармане у раздавленного Мармеладова.
Бывает, что деталь помогает отличить явь от кошмара или сна. Но отыскать такую деталь в тексте может каждый самостоятельно.

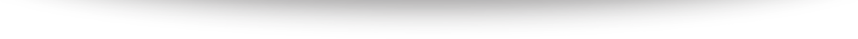


Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!
Войти
или
Зарегистрироваться
Вход в систему
Через социальные сети/сервисы:Twitter
Facebook
Vkontakte
Google Oauth2
Yandex
Забыли пароль?
закрыть
Регистрация нового пользователя
Обычная:
Через логин и пароль
Или через социальные сети/сервисы:
Twitter
Facebook
Vkontakte
Google Oauth2
Yandex
Забыли пароль?
закрыть